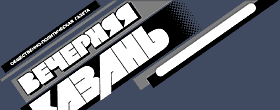| Горячие материалы | 05.03.2002 |
Клонирование по-татарски
Политическая география Республики Татарстан
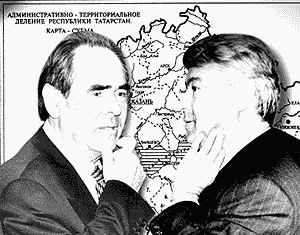 Одно из малопонятных нововведений в Конституции Татарстана - статья 67 с поименным перечнем районов и городов республики. Зачем? По словам одного из авторов новой редакции Конституции, таково требование федеральных законов. Одно из малопонятных нововведений в Конституции Татарстана - статья 67 с поименным перечнем районов и городов республики. Зачем? По словам одного из авторов новой редакции Конституции, таково требование федеральных законов.
Сейчас уже трудно подсчитать, сколько раз кроились и перекраивались районы Татарстана. То укрупняли, то вновь делили. Каждая эпоха вносила свои изменения в административную карту республики. Но на протяжении всего существования ТАССР этот процесс проходил в рамках экономической целесообразности. Лишь после объявления суверенитета в кройку районов был привнесен ярко выраженный политический мотив.
В первой половине 90-х начался настоящий бум районоклонирования. Тюлячинский, Новошешминский, Кайбицкий, Атнинский...
С одной стороны, в подавляющей своей массе клонировались и без того депрессивные сельские районы - на месте одного дотационного появлялось два. Соответственно плодился и чиновничий аппарат, милиция, прокуратура, суд... Тяжким бременем легли на плечи их жителей высокие социальные стандарты, что ввели для себя татарстанские чиновники. Джип, да не один, коттедж, да несколько, квартиры в Казани для себя и родни... Разумеется, все эти "маленькие радости" не на скромные зарплаты госслужащих. Помнится, в 98-м году побывал я в крошечном и нищем Кайбицком районе. Так его жители смеялись: мол, весь район работает на "ленд-крузер" главы администрации. Бензина японский джип жрет много, а на замену масла аж в Москву надо ездить. Доходило до смешного, главы районов между собой шипели на Исхакова: мэр Казани передвигался на "Волге". Начинка у нее, конечно, не газовская, но вид в условиях Татарстана до неприличия демократичный. Дескать, Камиль Шамильевич дешевой популярности ищет, в президенты метит...
С другой стороны, досуверенный Татарстан отличался катастрофически слабой сельской инфраструктурой: отсутствием асфальтовых дорог, газоснабжения, низкой телефонизацией... В такой ситуации появление новых административных центров должно было ускорить продвижение этой инфраструктуры в глубинку. Новая больница, асфальт до райцентра, после - веером до забытых богом деревень. В селах это воспринималось как чудо.
Трудно сказать, насколько экономически оправданным было увеличение числа районов. Но вот политические последствия были велики. Новые административные единицы появились за полтора-два года до серьезных корректив в Конституции Татарстана 1992 года. В 1994 году был изменен порядок выборов в парламент республики. Число обычных избирательных округов уменьшилось, а освободившиеся мандаты "разыгрывались" в границах административных единиц. Тут-то и понадобились многочисленные сельские районы. И 12-тысячные Кайбицы, и миллионная Казань выставляли по одному депутату.
Официальные объяснения были на редкость маловразумительными: дескать, в парламенте республики должны быть представлены территории. Неофициально новая схема решала важнейшую политическую задачу - в условиях многонациональной республики обеспечила количественное преобладание представителей титульной нации в парламенте. Малонаселенные, но преимущественно татарские сельские районы получили равное представительство с разношерстными в национальном плане городами. Это гарантировало сохранение курса на возрождение татарской государственности даже в условиях резкого падения жизненного уровня и разочарования части общества в политике суверенизации республики.
Не случайно впоследствии именно нарезка избирательных округов стала первой "жертвой" судебной войны. Подававшие иски прекрасно понимали их истинное значение.
Но если схема формирования Госсовета в своей неофициальной части имела высокую логику, то другая поправка серьезно дискредитировала и Конституцию республики, и цели, которые эта логика преследовала. В Основном законе появилась норма, разрешающая главам администраций избираться в парламент. Официальное объяснение Шаймиева, что "главы - тоже люди", ни в какие ворота не лезло. Слишком вопиющим было нарушение принципа разделения властей. Слишком явственно угадывались за этим решением персональные властные амбиции лидера республики. Ветераны Верховного Совета РТ начала 90-х вспоминали, как президент Шаймиев лично ходил по их кабинетам и упрашивал принять то или иное решение. После того как главы сели в парламент, надобность в этом отпала. Госсовет стал придатком администрации президента.
Сегодня ситуация принципиально изменилась. Политические преимущества от дробления республики сведены на нет судебными решениями. Попытка создать двухпалатный парламент, в котором нашлось бы место для представителей районов (неофициальные мотивы этой попытки аналогичны прежним), провалилась. Провалилась из-за разночтений в федеральном законодательстве. С одной стороны, допускается создание в региональных парламентах второй палаты: на этом основании федеральный центр потребовал внести в новую редакцию Конституции Татарстана перечень административных единиц. С другой - решения регионального парламента принимаются всем составом депутатов. Тем самым смысл верхней палаты начисто теряется.
Теряется и экономическое обоснование многочисленных депрессивных районов. Дороги, газ, больницы и школы, отсутствием которых можно было оправдать их существование в первой половине 90-х, уже понастроили. Остались главы администраций, их замы, начальники отделов, прокуроры, налоговики, читай - армия не слишком загруженных госслужащих. Остались их социальные стандарты... Не пора ли подумать о ее демобилизации? Впрочем, после принятия новой редакции Конституции провести укрупнения районов будет сложнее. Потребуется менять Основной закон.
Коллаж Ильи ПАРАМЫГИНА.
Рустам ВАФИН

|